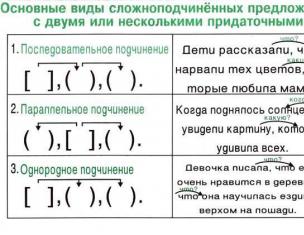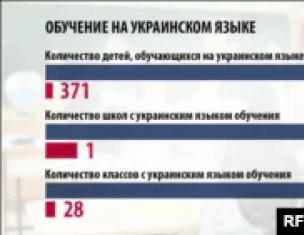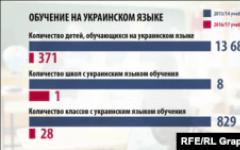Я встречаю много активных, упорных людей, которые вдруг сдаются, сдуваются и уходят в тоску с чувством полной безнадёжности. И ситуации-то не “аховые”, и в более серьёзных переделках человек бывал и выплывал, мог, делал, “впивался зубами” и продирался вперёд, шёл, двигался, активничал и развивался.
Почему же сейчас вдруг опустились руки? Что произошло?
А произошло вот что. В простонародье это называется ” на старые дрожжи”. Ситуации, возникшие сейчас, прорвали заброду и выпустили на волю старую, глубокую тоску.
Это чувство тотальной беспомощности и безнадёжности уже было. И тогда, когда оно было, оно полностью соответствовало ситуации.
” У меня сейчас часто бывают странные ощущения. Вдруг ни с того ни с сего меня немного подташнивает и через секунду резко портиться настроение. Это состояние ни с чем не сравнить. Оно особенное. Накатывает снизу вверх и как-будто укладывает на спину. Если ему податься, то надо лечь на спину как солдатик, вытянуть руки и ноги, а потом, сложить руки на груди, обездвижиться и … умереть. Я помню такое состояние накатывало на меня в детстве. Дедушка забирал меня с детского сада, мы шли по асфальтированному тротуару вдоль деревянных заборов частных домов, я вела палочкой по дощечкам заборов, она так прикольно тарахтела… и вдруг – оно. Тошнота и резкий провал в плохое настроение. Будучи маленькой я научилась распознавать его в себе и убегать от своего плохого настроения.”
Маленький ребёнок не может называть чувства, они прорывались “плохим настроением” и телесными ощущениями. Но вспомнив ощущения и ситуацию им соответствующую, “заглянув в своё детство”, можно высвободить из памяти и те невероятные чувства, которые так проявлялись в теле.
“… О, боже!.. Эта была безнадёжность, полная и тотальная безнадёжность моего детсадовского детства. Шкафчики с картинками, коридоры, железные раскладушки с острыми пружинами, которые надо было тянуть и раскладывать самим; матрасы, которые выдавали каждому в руки, чтобы он сам застелил себе постель. И эта еда, которая так отвратительно пахла, что и её можно было есть, только задержав дыхание и постаравшись не чувствовать склизкие куски во рту. Злобные, всемогущие воспитательницы, хитрые и двуличные одногрупники, всегда кого-то травили… Эти страшные туалеты с дыркой в полу, невозможность уединиться… Деревянные веранды, где заставляли сидеть всю прогулку до самого позднего вечера, иногда счастье- давали огрызки карандашей и маленькие тоненькие листочки серой бумаги, можно было рисовать … дом с крылечком, труба, палисадник…
Однажды, когда дедушка с бабушкой остались дома, я попросила меня в детский сад не водить. Только в это день. Они засомневались, помню их улыбающиеся лица, и мне показалось, что они согласились, но…вдруг передумали, видимо, решив, что в детский сад “ходить надо” и нечего тут расслабляться. Наверное в этот момент я поняла, что ничего не смогу изменить.”
Эта тотальная безнадёжность ребёнка, понимание и ощущение своей полной беспомощности, необходимости жить и терпеть все, что выпадает ему на долю – переживание настолько тотальное, что психика ребёнка не может его переварить. С этим невозможно ничего сделать. Жить, осознавая всё это, нельзя. Поэтому психика блокирует осознававшие и позволяет прожить это как телесный симптом – ощущение тошноты и эмоционального упадка.
Чувство полной безнадёжности, отчаяния и желание просто умереть – адекватная реакция ребёнка в безысходной ситуации. Действительно, там и тогда эта девочка была полностью беспомощна перед миром взрослых людей.
Если вы родились и выросли в Советском Союзе, прошли через систему ясель и детских садов, то эти чувства вам знакомы. Любая другая драматичная ситуация, а не только детский сад, может стать травмой для ребёнка и глубокой зарубкой в его душе.
Безнадёжность, беспомощность и отчаяние навсегда остаются врощенными в психику. И в периоды нашей жизни, когда несколько событий, произошедших одновременно, выбивают нас из колеи, мы, не осознавая того сами, оказываемся на деревянной веранде старого детского сада, как будто маленький ребёнок перед лицом огромного жестокого мира, где он ничего не может изменить.
Знаете, в инете есть видео эксперимента с блохами. Их накрывают банкой, держат несколько часов, потом снимают банку, и блохи уже никогда не могут выпрыгнуть за границы, когда-то обозначенные банкой.
Так и мы. Став взрослыми и сильными людьми, которые могут справиться и найти выход из большинства ситуаций, у которых много сил и ума сделать это, мы вдруг опускаем руки. Это происходит тогда, когда несколько событий в нашей жизни создают ситуацию, которую психика воспринимает похожей на наш детский опыт. И выдаёт готовый результат – “не иди, не борись, всё бесполезно, не стоит пытаться”.
И детская, горькая беспомощность накрывает с головой и опустошает душу.
Стать взрослым – это пережить и принять свой детский опыт.
А пока этого не произошло, психика часто может выдавать неадекватные детские реакции на ситуации, из которых состоит наша взрослая жизнь. И с которыми, может справиться любой взрослый человек.
На то он и взрослый)

Другая основная тема есть тема тоски. Всю жизнь меня сопровождала тоска. Это, впрочем, зависело от периодов жизни, иногда она достигала большей остроты и напряженности, иногда ослаблялась. Нужно делать различие между тоской и страхом и скукой. Тоска направлена к высшему миру и сопровождается чувством ничтожества, пустоты, тленности этого мира. Тоска обращена к трансцендентному, вместе с тем она означает неслиянность с трансцендентным, бездну между мной и трансцендентным. Тоска по трансцендентному, по иному, чем этот мир, по переходящему за границы этого мира. Но она говорит об одиночестве перед лицом трансцендентного. Это есть до последней остроты доведенный конфликт между моей жизнью в этом мире и трансцендентным. Тоска может пробуждать богосознание, но она есть также переживание богооставленности. Она между трансцендентным и бездной небытия. Страх и скука направлены не на высший, а на низший мир. Страх говорит об опасности, грозящей мне от низшего мира. Скука говорит о пустоте и пошлости этого низшего мира. Нет ничего безнадежнее и страшнее этой пустоты скуки. В тоске есть надежда, в скуке – безнадежность. Скука преодолевается лишь творчеством. Страх, всегда связанный с эмпирической опасностью, нужно отличать от ужаса, который связан не с эмпирической опасностью, а с трансцендентным, с тоской бытия и небытия. Кирхегардт отличает Angst от Furcht. Для него Angst есть первичный религиозный феномен.
Тоска и ужас имеют родство. Но ужас гораздо острее, в ужасе есть что-то поражающее человека. Тоска мягче и тягучее. Очень сильное переживание ужаса может даже излечить от тоски. Когда же ужас переходит в тоску, то острая болезнь переходит в хроническую. Характерно для меня, что я мог переживать и тоску и ужас, но не мог выносить печали и всегда стремился как можно скорее от нее избавиться. Характерно, что я не мог выносить трогательного, я слишком сильно его переживал. Печаль душевна и связана с прошлым. Тургенев – художник печали по преимуществу. Достоевский – художник ужаса. Ужас связан с вечностью. Печаль лирична. Ужас драматичен. Это странно, но мне казалось, что я вынесу тоску, очень мне свойственную, вынесу и ужас, но от печали, если поддамся ей, я совершенно растаю и исчезну. Печаль очень связана для меня с чувством жалости, которой я всегда боялся вследствие власти, которую она может приобрести над моей душой. Поэтому я всегда делал заграждения против жалости и печали, как и против трогательного. Против тоски я не мог ничего поделать, но она не истребляла меня. С точки зрения старой и довольно неверной классификации темпераментов у меня сочетались два типа, которые обычно считают противоположными. Я сангвиник и меланхолик. Может быть более бросались во мне в глаза черты сангвинического темперамента – мне легко бросалась кровь в голову, у меня была необыкновенно быстрая реакция на все, я был подвержен припадкам вспыльчивости. Но меланхолические черты темперамента были глубже. Я тосковал и был пессимистически настроен и тогда, когда внешне казался веселым, улыбался, проявлял большую живость. В моей натуре есть пессимистический элемент. Характерно, что во время моего духовного пробуждения в меня запала не Библия, а философия Шопенгауера. Это имело длительные последствия. Мне трудно было принять благостность творения. Обратной стороной этого был культ человеческого творчества. Поразительно, что у меня бывала наиболее острая тоска в так называемые «счастливые» минуты жизни, если вообще можно говорить о счастливых минутах. Я всегда боялся счастливых, радостных минут. Я всегда в эти минуты с особенной остротой вспоминал о мучительности жизни. Я почти всегда испытывал тоску в великие праздники, вероятно потому, что ждал чудесного изменения обыденности, а его не было. Трудно было то, что я никогда не умел, как многие, идеализировать и поэтизировать такие состояния, как тоска, отчаяние, противоречия, сомнение, страдание. Я часто считал эти состояния уродливыми.
Есть тоска юности. В юности тоска у меня была сильнее, чем в зрелом возрасте. Это тоска от нереализованности преизбыточных жизненных сил и неуверенности, что удастся вполне реализовать эти силы. В юности есть надежды на то, что жизнь будет интересной, замечательной, богатой необыкновенными встречами и событиями. И есть всегда несоответствие между этой надеждой и настоящим, полным разочарований, страданий и печалей, настоящим, в котором жизнь ущерблена. Ошибочно думать, что тоска порождена недостатком сил, тоска порождена и избытком сил. В жизненной напряженности есть и момент тоски. Я думаю, что юность более тоскует, чем обычно думают. Но у разных людей это бывает разно. Мне были особенно свойственны периоды тоски. И я как раз испытывал тоску в моменты жизни, которые считаются радостными. Есть мучительный контраст между радостностью данного мгновения и мучительностью, трагизмом жизни в целом. Тоска, в сущности, всегда есть тоска по вечности, невозможность примириться с временем. В обращенности к будущему есть не только надежда, но и тоска. Будущее всегда в конце концов приносит смерть, и это не может не вызывать тоски. Будущее враждебно вечности, как и прошлое. Но ничто не интересно, кроме вечности. Я часто испытывал жгучую тоску в чудный лунный вечер в прекрасном саду, в солнечный день в поле, полном колосьев, во встрече с прекрасным образом женщины, в зарождении любви. Эта счастливая обстановка вызывала чувство контраста с тьмой, уродством, тлением, которыми полна жизнь. У меня всегда была настоящая болезнь времени. Я всегда предвидел в воображении конец и не хотел приспособляться к процессу, который ведет к концу, отсюда мое нетерпение. Есть особая тоска, связанная с переживанием любви. Меня всегда удивляли люди, которые видели в этом напряженном подъеме жизни лишь радость и счастье. Эросу глубоко присущ элемент тоски. И эта тоска связана с отношением времени и вечности. Время есть тоска, неутоленность, смертоносность. Есть тоска пола. Пол не есть только потребность, требующая удовлетворения. Пол есть тоска, потому что на нем лежит печать падшести человека. Утоление тоски пола в условиях этого мира невозможно. Пол порождает иллюзии, которые превращают человека в средство нечеловеческого процесса. Дионисизм, который означает преизбыток жизни, порождает трагедию. Но стихия пола связана с дионисической стихией. Дионис и Гадес – один и тот же бог. Пол есть ущербность, расколотость человека. Но через жизнь пола никогда по-настоящему не достигается целостность человека. Пол требует выхода человека из самого себя, выхода к другому. Но человек вновь возвращается к себе и тоскует. Человеку присуща тоска по цельности. Но жизнь пола настолько искажена, что она увеличивает расколотость человека. Пол по своей природе не целомудрен, то есть не целостен. К целостности ведет лишь подлинная любовь. Но это одна из самых трагических проблем и об этом еще впереди.
Мне свойственно переживание тоски и в совсем другие мгновения, чем чудный лунный вечер. Я всегда почти испытываю тоску в сумерки летом на улице большого города, особенно в Париже и в Петербурге. Я вообще плохо выносил сумерки. Сумерки – переходное состояние между светом и тьмой, когда источник дневного света уже померк, но не наступило еще того иного света, который есть в ночи, или искусственного человеческого света, охраняющего человека от стихии тьмы, или света звездного. Именно сумерки обостряют тоску по вечности, по вечному свету. И в сумерках большого города наиболее обнаруживается зло человеческой жизни. Тоска ночи уже иная, чем тоска сумерек, она глубже и трансцендентнее. Я переживал очень острую тоску ночи, переживал ужас этой тоски. Это у меня со временем ослабело. В прошлом я не мог даже спать иначе, чем при искусственном освещении. Но я это преодолел. У меня бывали тяжелые сны, кошмары. Сны вообще для меня мучительны, хотя у меня иногда бывали и замечательные сны. Во время ночи я часто чувствовал присутствие кого-то постороннего. Это странное чувство у меня бывало и днем. Мы гуляем в деревне, в лесу или поле, нас четверо. Но я чувствую, что есть пятый и не знаю, кто пятый, не могу досчитаться. Все это связано с тоской. Современная психопатология объясняет эти явления подсознательным. Но это мало объясняет и ничего не разрешает. Я твердо убежден, что в человеческой жизни есть трансцендентное, есть притяжение трансцендентного и действие трансцендентного. Я чувствовал погруженность в бессознательное лоно, в нижнюю бездну, но еще более чувствовал притяжение верхней бездны трансцендентного.
Тоска очень связана с отталкиванием от того, что люди называют «жизнью», не отдавая себе отчета в значении этого слова. В «жизни», в самой силе «жизни» есть безумная тоска. «Сера всякая теория и вечно зелено древо жизни». Мне иногда парадоксально хотелось сказать обратное. «Серо древо жизни и вечно зелена теория». Необходимо это объяснить, чтобы не вызвать негодования. Это говорю я, человек совершенно чуждый всякой схоластике, школьности, всякой высушенной теории, уж скорее Фауст, чем Вагнер. То, что называют «жизнью», часто есть лишь обыденность, состоящая из забот. Теория же есть творческое познание, возвышающееся над обыденностью. Теория по-гречески значит созерцание. Философия (вечно зеленая «теория») освобождена от тоски и скуки «жизни». Я стал философом, пленился «теорией», чтобы отрешиться от невыразимой тоски обыденной «жизни». Философская мысль всегда особождала меня от гнетущей тоски «жизни», от ее уродства. Я противополагал «бытию» «творчество». «Творчество» не есть «жизнь», творчество есть прорыв и взлет, оно возвышается над «жизнью» и устремлено за границу, за пределы, к трансцендентному. Тоска исходит от «жизни», от сумерек и мглы «жизни» и устремлена к трансцендентному. Творчество и есть движение к трансцендентному. Творчество вызывает образ иного, чем эта «жизнь». Слово «жизнь» я употребляю в кавычках. В мире творчества все интереснее, значительнее, оригинальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем в истории или в мысли рефлексий и отражений. Во мне раскрывался мир более прекрасный, чем этот «объективный» мир, в котором преобладает уродство. Но это предполагает творческий подъем.
Свойственно ли мне переживание скуки, которая есть притяжение нижней бездны пустоты? Я почти никогда не скучал, мне всегда не хватало времени для дела моей жизни, для исполнения моего призвания. У меня не было пустого времени. Но многое, слишком многое мне было скучно. Я испытывал скуку от мирочувствия и миросозерцания большей части людей, от политики, от идеологии и практики национальной и государственной. Обыденность, повторяемость, подражание, однообразие, скованность, конечность жизни вызывают чувство скуки, притяжение к пустоте. Когда же наступает момент пассивности в отношении притяжения пустоты этого низшего мира, когда по слабости мир кажется пустым, плоским, лишенным измерения глубины, то скука делается диавольским состоянием, предвосхищением адского небытия. Страдание является спасительным в отношении к этому состоянию, в нем есть глубина. Предел инфернальной скуки, когда человек говорит себе, что ничего нет. Возникновение тоски есть уже спасение. Есть люди, которые чувствуют себя весело в пустыне. Это и есть пошлость. Многие любят говорить, что они влюблены в жизнь. Я никогда не мог этого сказать, я говорил себе, что влюблен в творчество, в творческий экстаз. Конечность жизни вызывает тоскливое чувство. Интересен лишь человек, в котором есть прорыв в бесконечность. Я всегда бежал от конечности жизни. Такое отношение к жизни приводило к тому, что я не обладал искусством жить, не умел использовать жизни. Для «искусства жить» нужно сосредоточиться на конечном, погрузиться в него, нужно любить жить во времени. «Несчастье человека, – говорит Карлейль в Sartor resartus, – происходит от его величия; от того, что в нем есть Бесконечное, от того, что ему не удается окончательно похоронить себя в конечном». Этот «объективный» мир, эта «объективная» жизнь и есть погребение в конечном. Самое совершенное в конечном есть погребение. Поэтому «жизнь» есть как бы умирание бесконечного в конечном, вечного во временном. Во мне есть сильный метафизически-анархический элемент. Это есть бунт против власти конечного. Иначе это можно было бы назвать элементом апофатическим. И в обыденной, и в исторической жизни слишком многое казалось мне или незначительным, или возмущающим. Мне противны были все сакрализации конечного. Тоска может стать религиозной. Религиозная тоска по бессмертию и вечности, по бесконечной жизни, не похожей на эту конечную жизнь. Искусство было для меня всегда погружением в иной мир, чем этот обыденный мир, чем моя собственная постылая жизнь. Именно приобщение к непохожему на эту жизнь есть магия искусства. Постоянная тоска ослабляла мою активность в жизни. Я от слишком многого уходил, в то время как многое нужно было преображать. Я редко, слишком редко чувствовал себя счастливым. Мне иногда казалось, что жизнь была бы хороша и радостна, если бы исчезла причина того, что меня мучит сейчас. Но когда эта причина исчезала, сейчас же являлась новая. Я ни от чего не чувствовал полного удовлетворения, в глубине считая его греховным.
Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Самопознание автора Бердяев НиколайГлава II Одиночество. Тоска. Свобода. Бунтарство. Жалость. Сомнения и борения духа. Размышление об эросе.
Из книги Христианство и философия автора Карпунин Валерий АндреевичТоска, уныние и депрессия: христианское отношение к ним «Депрессия» - слово иностранное. Означает оно то же самое, что и русские слова «уныние» и «тоска». Мы находимся в состоянии депрессии, когда нас «съедают», «гложут» грусть и тоска. Характерной особенностью депрессии
Из книги Шок будущего автора Тоффлер ЭлвинПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ТОСКА Однако же «не передвигающиеся» люди кардинальным образом отличаются друг от друга. Речь идет не только о занятых в сельском хозяйстве жителях Индии или Ирана, которые большей частью закреплены всю свою жизнь на одном месте. То же относится и к
Из книги Гуманистический психоанализ автора Фромм Эрих ЗелигманнХроническая депрессия и скука (тоска) Проблема стимулирования (возбуждения) тесно связана с феноменом, который не имеет ни малейшего отношения к возникновению агрессии и деструктивности: речь идет о скуке (тоске). С точки зрения логики феномен скуки следовало бы
Из книги Человек среди учений автора Кротов Виктор ГавриловичНеутолённая тоска по единству Не будем забывать, что у того явления, которое мы называем здесь учением, двойственная природа. Носителями его являются живые люди с естественным ощущением единой человеческой природы. Поэтому любое учение таит тоску по единству, по тому,
Из книги Чувства и вещи автора Богат Евгений Из книги Философия экзистенциализма автора Больнов Отто Фридрих5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ Наряду с этим и другие становящиеся значимыми для экзистенциальной философии настроения - скука, тоска, отчаяние - обретают свое экзистенциальное значение за счет того, что в соответствующих формах повторяют результат страха, выкликая
Текущая страница: 4 (всего у книги 60 страниц)
Шрифт:
100% +
Записка самоубийцы
* * *
Завтра, когда мое тело найдут,
Плач и рыданья поднимутся тут.Станут жалеть о судьбе дарований,
Смерть назовут и случайной и ранней,И, свои прежние речи забыв,
Станут мечтать, как я был бы счастлив.Только одни стебельки иммортели
Тихо шепнут о достигнутой цели.
* * *
Кончено! кончено! Я побежден.
– Смейтесь!
Погас, погас весенний сон…
Листья осенние, вейтесь!Медленно всходит былая луна,
Всходит…
Горит в огнях, горит волна;
Челнок опрокинутый бродит.Утром наляжет на ропотный лес
Иней,
И, все в крови, – укор небес -
Солнце взойдет над пустыней.
* * *
…я вернулся на яркую землю,
Меж людей, как в тумане, брожу,
И шумящему говору внемлю,
И в горящие взоры гляжу.Но за ропотом снежной метели
И под шепот ласкающих слов -
Не забыл я полей асфоделей,
Залетейских немых берегов.И в сияньи земных отражений
Мне все грезятся – ночью и днем
Проходящие смутные тени,
Озаренные тусклым огнем.
* * *
Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.
Овевает странной сладостью
Тень таинственного сна.Беспредельным далям преданный,
Там, где меркнет свет и шум,
Я покину круг изведанный
Повторенных слов и дум.Грань познания и жалости
Сердце вольно перейдет,
В вечной бездне, без усталости,
Будет плыть вперед, вперед.И все новой, странной сладостью
Овевает призрак сна…
Я бы умер с тайной радостью
В час, когда взойдет луна.
Ни красок, ни лучей, ни аромата,
Ни пестрых рыб, ни полумертвых роз,
Ни даже снов беспечного разврата,
Ни слез!Поток созвучий все слова унес,
За вечера видений вот расплата!
Но странно нежит эта мгла без грез,
Без слез!Последний луч в предчувствии заката
Бледнеет… Ночь близка… Померк утес.
Мне все равно. Не надо – ни возврата,
Ни слез!
В пути
* * ** * *
Сумрак за черным окном
В полночь тоскливо погас.
Думы овеяны сном
В этот загадочный час.Странницы жизни, мечты
Около длинных гробниц,
В склепе былой красоты,
Пали, простерлися ниц.Звук заклинающих слов,
Дрогнув среди тишины,
Тихо коснулся гробов,
Словно улыбка луны.В девственно чистых венцах,
В белом сияньи одежд
Вот приподнялись в гробах
Тени погибших надежд.Очи глядят на меня,
Руки тревожно дрожат…
Сладко предчувствие дня,
Томен цветов аромат.Сердце, зачем, о, зачем
Ты умираешь во сне!
Сумрак, бесстрастен и нем,
Тускло глядится ко мне.
* * *
Тайны мрака побледнели;
Неземные акварели
Прояснились на востоке;
Но, таинственно-далеки,
Звезды ночи не хотели,
Уступив лучу денницы,
Опустить свои ресницы.И в моей душе усталой
Брезжит день лазурно-алый,
Веет влагой возрожденья, -
Но туманные сомненья
Нависают, как бывало,
И дрожат во мгле сознанья
Исступленные желанья.
* * *
Прохлада утренней весны
Пьянит ласкающим намеком;
О чем-то горестно далеком
Поют осмеянные сны.Бреду в молчаньи одиноком.
О чем-то горестно далеком
Поют осмеянные сны,
О чем-то чистом и высоком,
Как дуновение весны.Бреду в молчаньи одиноком.
О чем-то странном и высоком,
Как приближение весны…
В душе, с приветом и упреком,
Встают отвергнутые сны.Бреду в молчаньи одиноком.
Из бездны ужасов и слез,
По ступеням безвестной цели,
Я восхожу к дыханью роз
И бледно-палевых камелий.Мне жаль восторженного сна
С палящей роскошью видений;
Опять к позору искушений
Душа мечтой увлечена.Едва шепнуть слова заклятий, -
И блеском озарится мгла,
Мелькнут, для плясок, для объятий,
Нагие, страстные тела…Но умирает вызов властный
На сомкнутых устах волхва;
Пускай желанья сладострастны, -
Покорно-холодны слова!
Май 1806
* * *
Последние думы
О яркой земле
Витают, угрюмы,
В безжизненной мгле;Зловещи и хмуры,
Скользят меж теней,
Слепые лемуры
Погибших страстей;Шныряют как совы
В сиянии дня, -
Готовы, готовы
Вонзиться в меня!Но мысль отгоняет
Невольный испуг:
Меня охраняет
Магический круг,И, тайные знаки
Свершая жезлом,
Стою я во мраке
Бесстрастным волхвом.
Сентябрь 1806
* * ** * *
Не плачь и не думай:
Прошедшего – нет!
Приветственным шумом
Врывается свет.Уснувши, ты умер
И утром воскрес, -
Смотри же без думы
На дали небес.Что вечно – желанно,
Что горько – умрет…
Иди неустанно
Вперед и вперед.
* * *
В час, когда гений вечерней прохлады
Жизнь возвращает цветам,
К Озеру Снов, по знакомым тропам,
Медленно тянутся гады.Там они, в ясной и чистой тиши,
Водят круги омерзительной пляски,
Правят под месяцем липкие ласки,
Слизью сквернят камыши.В жуткой тревоге святые виденья
К небу восходят, как белый туман;
Сны мои черны, – и снова я пьян
Мутным вином искушенья.
О, когда бы я назвал своею
Хоть тень твою!
По и тени твоей я не смею
Сказать: люблю.Ты прошла недоступно небесной
Среди зеркал,
И твой образ над призрачной бездной
На миг дрожал.Он ушел, как в пустую безбрежность,
Во глубь стекла…
И опять для меня – безнадежность,
И смерть, и мгла!
Завершение
Годы молчания* * *
Есть для избранных годы молчания.
Они придут -
И осудят былые желания…
О, строгий суд!Но томленье о благе единственном
Не явит нам,
Как пройти переходом таинственным
К иным мечтам.В лабиринте блуждая, бессильные,
Собьемся мы,
И заманят нас в глуби могильные
Соблазны тьмы!
* * *
И в ужасе я оглянулся назад,
И понял безумие жизни.
– Померк! да, померк торжествующий взгляд,
Ты понял безумие жизни!В безумии жизни я не был рабом,
Не буду и ради блаженства!
– Блуждай же, безумец, в томленьи пустом:
Тебе не изведать блаженства!
Обязательства
Еще надеяться – безумие.
Смирись, покорствуй и пойми;
Часами долгого раздумия
Запечатлей союз с людьми.Прозрев в их душах благодатное,
Прости бессилие минут:
Теперь уныло-непонятное
Они, счастливые, поймут.Так. Зная свет обетования,
Звездой мерцающий в ночи,
Под злобный шум негодования
Смирись, покорствуй и молчи.
Отреченье
Я не знаю других обязательств,
Кроме девственной веры в себя.
Этой истине нет доказательств,
Эту тайну я понял, любя.Бесконечны пути совершенства,
О, храни каждый миг бытия!
В этом мире одно есть блаженство -
Сознавать, что ты выше себя.Презренье – бесстрастие – нежность -
Эти три, – вот дорога твоя.
Хорошо, уносясь в безбрежность,
За собою видеть себя.
Числа
Как долго о прошлом я плакал,
Как страстно грядущего ждал,
И Голос – угрюмый оракул -
«Довольно!» сегодня сказал.«Довольно! надежды и чувства
Отныне былым назови,
Приветствуй лишь грезы искусства,
Ищи только вечной любви.Ты счастием назвал волненье,
Молил у страданий венца,
Но вот он, твой путь, – отреченье,
И знай: этот путь – без конца!»
Не только в жизни
богов и демонов раскрывается
могущество числа.
Пифагор
Строгое звено
Мечтатели, сибиллы и пророки
Дорогами, запретными для мысли,
Проникли – вне сознания – далеко,
Туда, где светят царственные числа.Предчувствие разоблачает тайны,
Проводником нелицемерным светит:
Едва откроется намек случайный,
Объемлет нас непересказный трепет.Вам поклоняюсь, вас желаю, числа!
Свободные, бесплотные, как тени,
Вы радугой связующей повисли
К раздумиям с вершины вдохновенья!
* * *
Для всех приходят в свой черед
Дни отреченья, дни томленья.
Одна судьба нас всех ведет,
И в жизни каждой – те же звенья!Мы все, мы все переживем,
Что было близко лучшим душам,
И будем плакать о былом,
И клятвы давние нарушим!За снами страсти – суждено
Всем подступить к заветным тайнам,
И это строгое звено
Не называй в цепи случайным!
Я прежде боролся, скорбел,
Но теперь я жду.
Я сознал заветный предел,
Забыл вражду.Остановить, что быть должно,
Нет сил.
Тому бороться смешно,
Кто победил.Если победа судьбой дана,
Знай и смирись.
Так меня – безвольно волна
Возносит в высь.
Лирические поэмы
Идеал
Ее он увидел в магический час;
Был вечер лазурным, и запад погас,
И первые тени над полем и лесом
Дрожали, сквозили ажурным навесом.
В таинственном храме весенних теней,
Мечтатель, он встретился с грезой своей.
Они обменялись медлительным взглядом…
И девичьим, белым, прозрачным нарядом
Она замелькала меж тонких стволов,
И долго смотрел он, – без грез и без слов,
Смотрел, наслаждаясь представшим виденьем,
Смотрел, отдаваясь наставшим мгновеньям.
Сияньем их жизнь озарилась с тех пор,
Как будто на небе застыл метеор;
И стали их дни многоцветны и ярки,
Как радостных радуг воздушные арки;
Им были слепительны думы и сны,
Как пышное утро расцветшей весны!
Но в чистые дали их робких мечтаний
Не смело проникнуть желанье свиданий:
В открытых просторах их девственных грез
Клонились цветы под наитием рос,
Шептала волна на прибрежьи лагуны,
Чуть слышно звенели незримые струны.
И дивное счастье поведал им бог.
Вдали от людей и от шумных тревог,
В молчаньи лесном, убаюканном тайной,
Друг с другом они повстречались случайно.
Так в старой беседке, игрой ветерка,
Друг с другом сплетаются два лепестка.
И, точно друзья после долгой разлуки,
Они протянули уверенно руки,
И все, о чем каждый мечтал сам с собой,
Другой угадал вдохновенной душой.
И были не нужны ни клятвы, ни речи
При этой короткой задумчивой встрече.
То был мотылек, пилигрим вечеров,
Который подслушал прощанье без слов;
То было смущенное облачко мая,
Которое, в дали лазоревой тая,
Над лилией видело алый цветок:
Улыбку, склоненную к трепету щек!
Сон пророческий
И больше они никогда не встречались!
Но светлой святыней в их душах остались
Блаженные тени мгновенного дня…
И жили они, эту тайну храня,
И память о жизни, о горестной жизни,
Была их наградой в небесной отчизне.
В мое окно давно гляделся день;
В моей душе, как прежде, было смутно.
Лишь иногда отрадою минутной
Дышала вновь весенняя сирень,
Лишь иногда, пророчески и чудно,
Мерцал огонь лампады изумрудной.Минутный миг! и снова я тонул
В безгрезном сие, в томительном тумане
Неясных форм, неверных очертаний,
И вновь стоял неуловимый гул
Не голосов, а воплей безобразных,
Мучительных и странно неотвязных.Мой бедный ум, как зимний пилигрим,
Изнемогал от тщетных напряжений.
Мир помыслов и тягостных сомнений,
Как влажный снег, носился перед ним;
Казалось: ряд неуловимых линий
Ломался вдруг в изменчивой картине.Стал сон ясней. Дымящийся костер
На берегу шипел и рассыпался.
В гирляндах искр туманно означался
Безумных ведьм неистовый собор.
А я лежал, безвольно распростертый,
Живой для дум, но для движений мертвый.Безмолвный сонм собравшихся теней
Сидел вокруг задумчивым советом.
Десятки рук над потухавшим светом
Тянулись в дым и грелись у огней;
Седых волос обрывки развевались,
И головы медлительно качались.И вот одна, покинув страшный круг,
Приблизилась ко мне, как демон некий.
Ужасный лик я видел через веки,
Горбатый стан угадывал, – и вдруг
Я расслыхал, как труп на дне гробницы,
Ее слова, – как заклинанья жрицы.«Ты будешь жить! – она сказала мне. -
Бродить в толпе ряды десятилетий,
О, много уст вопьются в губы эти,
О, многим ты «люблю» шепнешь во сне!
Замрешь не раз в порыве страсти пьяном…Ты будешь петь! Придут к твоим стихам
И юноши и девы, и прославят,
И идол твой торжественно поставят
На высоте. Ты будешь верить сам,
Что яркий луч зажег ты над туманом…
Но будет все – лишь тенью, лишь обманом!Ты будешь ждать! И меж земных богов
Единого искать, тоскуя, бога.
И, наконец, уснет твоя тревога,
Как буйный ключ среди глухих песков.
Поверишь ты, что стал над Иорданом…
Но будет все – лишь тенью, лишь обманом!»Сказав, ушла. Хотел я отвечать,
Но вдруг костер, пред тем как рухнуть, вспыхнул,
И шепот ведьм в беззвездной ночи стихнул,
Ужасный сон на грудь мне лег опять.
Вновь понеслись бесформенные тени,
И лишь в окно вливалась песнь сирени.
TERTIA VIGTLIA
1898 – 1901
Памяти Ивана Коневского и Георга Бахмана, двух ушедших.
Возвращение
ВозвращениеЯ
Я убежал от пышных брашен,
От плясок сладострастных дев.
Туда, где мир уныл и страшен;
Там жил, прельщения презрев.Бродил, свободный, одичалый,
Таился в норах давней мглы;
Меня приветствовали скалы,
Со мной соседили орлы.Мои прозренья были дики,
Мой каждый день запечатлен;
Крылато-радостные лики
Глядели с довременных стен.И много зим я был в пустыне,
Покорно преданный Мечте…
Но был мне глас. И снова ныне
Я – в шуме слов, я – в суете.Надел я прежнюю порфиру,
Умастил миром волоса.
Едва предстал я, гордый, пиру,
«Ты царь!» – решили голоса.Среди цариц веселой пляски
Я вольно предызбрал одну:
Да обрету в желаньи ласки
Свою безвольную весну!И ты, о мой цветок долинный,
Как стебель, повлеклась ко мне.
Тебя пленил я сказкой длинной…
Ты – наяву, и ты – во сне.Но если, страстный, в миг заветный,
Заслышу я мои трубный звук, -
Воспряну! кину клич ответный
И вырвусь из стесненных рук!
* * *
Мой дух не изнемог во мгле противоречий,
Не обессилел ум в сцепленьях роковых.
Я все мечты люблю, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих.Я возносил мольбы Астарте и Гекате,
Как жрец, стотельчих жертв сам проливал я кровь,
И после подходил к подножиям распятий
И славил сильную, как смерть, любовь.Я посещал сады Ликеев, Академий,
На воске отмечал реченья мудрецов;
Как верный ученик, я был ласкаем всеми,
Но сам любил лишь сочетанья слов.На острове Мечты, где статуи, где песни,
Я исследил пути в огнях и без огней,
То поклонялся тем, что ярче, что телесней,
То трепетал в предчувствии теней.И странно полюбил я мглу противоречий
И жадно стал искать сплетений роковых.
Мне сладки все мечты, мне дороги все речи,
И всем богам я посвящаю стих…
Ребенком я, не зная страху,
Хоть вечер был и шла метель,
Блуждал в лесу, и встретил пряху,
И полюбил ее кудель.И было мне так сладко в детстве
Следить мелькающую нить,
И много странных соответствий
С мечтами в красках находить.То нить казалась белой, чистой;
То вдруг, под медленной луной,
Блистала тканью серебристой;
Потом слилась со мглой ночной.Я, наконец, на третьей страже.
Восток означился, горя,
И обагрила нити пряжи
Кровавым отблеском заря!
Любимцы веков
АссаргадонАссирийская надпись
Халдейский пастух
Я – вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море.Египту речь моя звучала, как закон,
Элам читал судьбу в моем едином взоре,
Я на костях врагов воздвиг свой мощный трон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!Кто превзойдет меня? кто будет равен мне?
Деянья всех людей – как тень в безумном сне,
Мечта о подвигах – как детская забава.Я исчерпал до дна тебя, земная слава!
И вот стою один, величьем упоен,
Я, вождь земных царей и царь – Ассаргадон.
Рамсес
Отторжен от тебя безмолвием столетий,
Сегодня о тебе мечтаю я, мой друг!
Я вижу ночь и холм, нагую степь вокруг,
Торжественную ночь при тихом звездном свете.Ты жадно смотришь вдаль; ты с вышины холма
За звездами следишь, их узнаешь и числишь,
Предвидишь их круги, склонения… Ты мыслишь,
И таинства миров яснеют для ума.Божественный пастух! среди тиши и мрака
Ты слышал имена, ты видел горний свет:
Ты первый начертал пути своих планет,
Нашел названия для знаков Зодиака.И пусть безлюдие, нагая степь вокруг;
В ту ночь изведал ты все счастье дерзновенья,
И в этой радости дай слиться на мгновенье
С тобой, о искренний, о неизвестный друг!
Отрывок
По бездорожьям царственной пустыни,
Изнемогая жаждой, я блуждал.
Лежал песок, за валом вал,
Сияли небеса, безжалостны и сини…
Меж небом и землей я был так мал.И, встретив памятник, в песках забытый,
Повергся я на каменный помост.
Палили тело пламенные плиты,
И с неба падал дождь огнистых звезд.
По в полумгле томительного бреда
Нащупал надпись я на камнях тех:Черты, круги, людские лики, грифы -
Я разбирал, дрожа, гиероглифы:
«Мне о забвеньи говорят, – о, смех!
Векам вещают обо мне победы!»И я смеялся смыслу знаков тех
В неверной мгле томительного бреда.
– Кто ты, воитель дерзкий? Дух тревожный?
Ты – Озимандия? Ассаргадон? Рамсес?Тебя не знаю я, твои вещанья ложны!
Жильцы пустынь, мы все равно ничтожны
В веках земли и в вечности небес.И встал тогда передо мной Рамсес.
.........................
Сентябрь 1899
Жрец ИзидыПсихея
Я – жрец Изиды светлокудрой;
Я был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя «Мудрый»
За то, что жизнь моя чиста.Уста не осквернял я ложью,
Корыстью не прельщался я,
И к женской груди, с страстной дрожью,
Не припадала грудь моя;Давал я щедро подаянье
Всем, обращавшимся ко мне…
Но есть в душе воспоминанье,
Как змей лежащее на дне.Свершал я путь годичный в Фивы…
На палубе я утра ждал…
Чуть Нил влачил свои разливы;
Смеялся вдалеке шакал.И женщина, в одежде белой,
Пришла на пристань, близ кормы,
И стала, трепетно-несмело,
Там, пред порогом водной тьмы.Дрожал корабль наш, мертвый, сонный,
Громадой черной перед ней,
А я скрывался потаенно
Меж бревен, весел и снастей.И, словно в жажде утешенья,
Та, в белом женщина, ждала
И медлила свершить решенье…
Но дрогнула пред утром мгла…В моей душе все было смутно,
Хотел я крикнуть – и по мог…
Но вдруг повеял ветр попутный,
И кормщик затрубил в свой рог.Все пробудились, зашумели,
Вознесся якорь с быстротой,
Канаты радостно запели, -
Но пристань видел я – пустой!И мы пошли, качаясь плавно,
И быстро все светлело вкруг, -
Но мне казалось, будто явно
В воде распространялся круг…Я – жрец Изиды светлокудрой;
Я был воспитан в храме Фта,
И дал народ мне имя «Мудрый»
За то, что жизнь моя чиста.
Цирцея
Что чувствовала ты, Психея, в оный день,
Когда Эрот тебя, под именем супруги,
Привел на пир богов под неземную сень?
Что чувствовала ты в их олимпийском круге?И вся любовь того, кто над любовью бог,
Могла ли облегчить чуть видные обиды:
Ареса дерзкий взор, царицы злобный вздох,
Шушуканье богинь и злой привет Киприды!И на пиру богов, под их бесстыдный смех,
Где выше власти все, все – боги да богини,
Не вспоминала ль ты о днях земных утех,
Где есть печаль и стыд, где вера есть в святыни!
Кассандра
Я – Цирцея, царица; мне заклятья знакомы;
Я владычица духов и воды и огня.
Их восторгом упиться я могу до истомы,
Я могу приказать им обессилить меня.В полусне сладострастья ослабляю я чары:
Разрастаются дико силы вод и огней.
Словно шум водопадов, словно встали пожары, -
И туманят, и ранят, всё больней, всё страшней.И так сладко в бессильи неземных содроганий,
Испивая до капли исступленную страсть,
Сохранять свою волю на отмеченной грани
И над дерзостной силой сохранять свою власть.
Моисей
Пророчица Кассандра! – тень твоя,
Путь совершив к благословенной Лете,
Не обрела утех небытия,
И здесь твои мечты горят огнем столетий.Твой дух живет в виденьях лучших дней,
Ты мыслью там, близ Иды, у Скамандра,
Ты ищешь круг тебе родных теней,
Поешь в Аиде им, пророчица Кассандра!Зовешь вождей и, Фебом вновь полна,
Им славишь месть, надеждой пламенея, -
Что примут казнь ахейцев племена,
Во прах повергнуты потомками Энея!Но влага Леты упоила всех,
И жажду мести пробуждать в них тщетно!
Уста героев гнет загробный смех:
Ты славишь – все молчит, зовешь – и безответно!
Александр Великий
Я к людям шел назад с таинственных высот,
Великие слова в мечтах моих звучали.
Я верил, что толпа надеется и ждет…
Они, забыв меня, вокруг тельца плясали.Смотря на этот пир, я понял их, – и вот
О камни я разбил ненужные скрижали
И проклял навсегда твой избранный парод.
Но не было в душе ни гнева, ни печали.А ты, о господи, ты повелел мне вновь
Скрижали истесать. Ты для толпы преступной
Оставил свой закон. Да будет так. ЛюбовьНе смею осуждать. Но мне, – мне недоступна
Она. Как ты сказал, так я исполню все,
Но вечно, как любовь, – презрение мое.
Неустанное стремленье от судьбы к иной судьбе,
Александр Завоеватель, я – дрожа – молюсь тебе.Но не в час ужасных боев, возле древних Гавгамел,
Ты мечтой, в ряду героев, безысходно овладел.Я люблю тебя, Великий, в час иного торжества.
Были буйственные клики, ропот против божества.И к войскам ты стал, как солнце: ослепил их грозный
взгляд,
И безвольно македонцы вдруг отпрянули назад.Ты воззвал к ним: «Вы забыли, кем вы были, что теперь!
Как стада, в полях бродили, в чащу прятались, как зверь.Создана отцом фаланга, вашу мощь открыл вам он;
Вы со мной прошли до Ганга, в Сарды, в Сузы, в Вавилон.Или мните: государем стал я милостью мечей?
Мне державство отдал Дарий! скипетр мой, иль он ничей!Уходите! путь открытый! размечите бранный стан!
Дома детям расскажите о красотах дальних стран,Как мы шли в горах Кавказа, про пустыни, про моря…
Но припомните в рассказах, где вы кинули царя!Уходите! ждите славы! Но – Аммона вечный сын -
Здесь, по царственному праву, я останусь и один».От курений залы пьяны, дышат золото и шелк.
В ласках трепетной Роксаны гнев стихает и умолк.Царь семнадцати сатрапий, царь Египта двух корон,
На тебя – со скриптром в лапе – со стены глядит Аммон.Стихли толпы, колесницы, на равнину пал туман…
Но, едва зажглась денница, взволновался шумный стан.В поле стон необычайный, молят, падают во прах…
Не вздохнул ли, Гордый, тайно о своих ночных мечтах?О, заветное стремленье от судьбы к иной судьбе.
В час сомненья и томленья я опять молюсь тебе!
От скраденной луны,
Что ведьмину рубаху
Убрали с пелены…
Куда ушла усталость,
И робость, и тоска…
Была ли это жалость
К судьбишке дурака,
Как знать?.. Луна высоко
Взошла - так хороша,
Была не одинока
Теперь моя душа…
ЗА ОГРАДОЙ
Глубоко ограда врыта,
Тяжкой медью блещет дверь…
- Месяц! месяц! так открыто
Черной тени ты не мерь!
Пусть зарыто, - не забыто
Никогда или теперь.
Так луною блещет дверь.
Мало ль ссыпано отравы?..
Только зори ль здесь кровавы
Или был неистов зной,
Но под лунной пеленой
От росы сомлели травы…
Иль за белою стеной
Страшно травам в час ночной?
Прыгнет тень и в травы ляжет,
Новый будет ужас нажит…
С ней и месяц заодно ж
Месяц в травах точит нож.
Месяц видит, месяц скажет:
«Убежишь… да не уйдешь»…
И по травам ходит дрожь.
ТО БЫЛО НА ВАЛЛЕН-КОСКИ
То было на Валлен-Коски.
Шел дождик из дымных туч
И желтые мокрые доски
Сбегали с печальных круч.
Мы с ночи холодной зевали,
И слезы просились из глаз;
В утеху нам куклу бросали
В то утро в четвертый раз.
Разбухшая кукла ныряла
Послушно в седой водопад,
И долго кружилась сначала,
Все будто рвалася назад.
Но даром лизала пена
Суставы прижатых рук,
Спасенье ее неизменно
Для новых и новых мук.
Гляди, уж поток бурливый
Желтеет, покорен и вял;
Чухонец-то был справедливый,
За дело полтину взял.
И вот уж кукла на камне,
И дальше идет река…
Комедия эта была мне
В то серое утро тяжка.
Бывает такое небо,
Такая игра лучей,
Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей.
Как листья тогда мы чутки:
Нам камень седой, ожив,
Стал другом, а голос друга,
Как детская скрипка, фальшив.
И в сердце сознанье глубоко,
Что с ним родился только страх
Что в мире оно одиноко,
Как старая кукла в волнах…
ТРИЛИСТНИК СУМЕРЕЧНЫЙ
СИРЕНЕВАЯ МГЛА
Наша улица снегами залегла,
По снегам бежит сиреневая мгла.
Мимоходом только глянула в окно,
И я понял, что люблю ее давно.
Я молил ее, сиреневую мглу:
«Погости-побудь со мной в моем углу,
Не мою тоску ты давнюю развей,
Поделись со мной, желанная, своей!»
Но лишь издали услышал я в ответ:
«Если любишь, так и сам отыщешь след.
Где над омутом синеет тонкий лед,
Там часочек погощу я, кончив лет,
А у печки-то никто нас не видал…
Только те мои, кто волен да удал».
ТОСКА МИМОЛЕТНОСТИ
Бесследно канул день. Желтея, на балкон
Глядит туманный диск луны, еще бестенной,
И в безнадежности распахнутых окон,
Уже незрячие, тоскливо-белы стены.
Сейчас наступит ночь. Так черны облака…
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
Там все, что прожито, - желанье и тоска,
Там все, что близится, - унылость и забвенье.
Здесь вечер как мечта: и робок и летуч,
Но сердцу, где ни струн, ни слез, ни ароматов,
И где разорвано и слито столько туч…
Он как-то ближе розовых закатов.
СВЕЧКУ ВНЕСЛИ
Не мерещится ль вам иногда,
Когда сумерки ходят по дому,
Тут же возле иная среда,
Где живем мы совсем по-другому?
С тенью тень там так мягко слилась,
Там бывает такая минута,
Что лучами незримыми глаз
Мы уходим друг в друга как будто.
И движеньем спугнуть этот миг
Мы боимся, иль словом нарушить,
Точно ухом кто возле приник,
Заставляя далекое слушать.
Но едва запылает свеча,
Чуткий мир уступает без боя,
Лишь из глаз по наклонам луча
Тени в пламя сбегут голубое.
ТРИЛИСТНИК ТОЛПЫ
ПРЕЛЮДИЯ
Я жизни не боюсь. Своим бодрящим шумом
Она дает гореть, дает светиться думам.
Тревога, а не мысль растет в безлюдной мгле,
И холодно цветам ночами в хрустале.
Но в праздности моей рассеяны мгновенья,
Когда мучительно душе прикосновенье,
И я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
Как спичку на ветру загородив рукой…
Пусть это только миг… В тот миг меня не трогай,
Я ощупью иду тогда своей дорогой…
Мой взгляд рассеянный в молчаньи заприметь
И не мешай другим вокруг меня шуметь.
Так лучше. Только бы меня не замечали
В тумане, может быть, и творческой печали.
ПОСЛЕ КОНЦЕРТА
В аллею черные спустились небеса,
Но сердцу в эту ночь не превозмочь усталость…
Погасшие огни, немые голоса,
Неужто это все, что от мечты осталось?